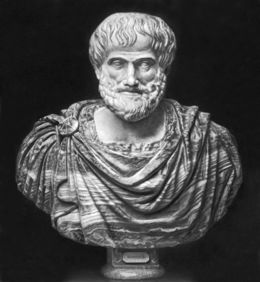Аристотель: различия между версиями
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:Бюст_Аристотеля.jpg|right|260px|мини|Аристотель]]'''АРИСТОТЕЛЬ '''Стагирит''' '''(Aristoteles) (384, Стагир — 322 до н.э., Халкида, о. Эвбея) — крупнейший | + | [[Файл:Бюст_Аристотеля.jpg|right|260px|мини|Аристотель]]'''АРИСТОТЕЛЬ '''Стагирит''' '''(Aristoteles) (384, Стагир — 322 до н.э., Халкида, о. Эвбея) — крупнейший древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, создавший универсальную систему знаний и классификацию наук, основанную на опытном отношении к миру. |
Философия А. оказала огромное влияние на развитие всей последующей европейской философии, преимущественно ее рационалистической линии. А. пользовался большим авторитетом в схоластике (Альберт Великий, Фома Аквинский). В Новое и новейшее время его идеи использовали философы различных направлений (от неосхоластики до неотомизма). | Философия А. оказала огромное влияние на развитие всей последующей европейской философии, преимущественно ее рационалистической линии. А. пользовался большим авторитетом в схоластике (Альберт Великий, Фома Аквинский). В Новое и новейшее время его идеи использовали философы различных направлений (от неосхоластики до неотомизма). | ||
| − | В текстах Ф. имя А. встречается нередко в различных контекстах. А. привлекал внимание Ф. своим опытным, а не отвлеченным подходом к познанию мира, в результате которого мир представлялся в принципе познаваемым средствами научной методологии. ''В.А. Кожевников'' дает следующую характеристику А., которая объясняет положительное отношение к нему Ф.: «В лице А. оно (отношение к природе. — ''В. В.'') сделало колоссальный шаг вперед. Среди стольких заслуг трезвого ума великого Стагирита, быть может высшей следует считать убеждение в необходимости ''универсального знания''. Ему было ясно, что только полное всеобъемлющее ведение может стать совершенным знанием. Отсюда энциклопедическое, полигисторское направление его деятельности; отсюда столь сосредоточенное внимание даже на таких кажущихся мелочах в жизни природы, снисходить до которых считалось недостойным мудреца у более тщеславных умов; отсюда же, наконец, высшая оценка опыта, доведенного до активного воздействия на силы природы» (''Кожевников ''2004, с. 313). Однако отношение к древнегреческому философу у Ф. двойственное. Критически относясь ко всей традиции западноевропейской философии как к традиции отвлеченного знания, и в том числе к «ученому сословию» как главному представителю и носителю такого знания, А. выпадает из этой традиции. Можно сказать, что А. у Ф. занимает исключительно привилегированное положение, поскольку лишь у него он увидел синтез знания и действия. Характерны в этом отношении следующие слова Ф. из его работы ''«Вопрос о братстве, или родстве…»'': «Аристотеля можно считать отцом ученого сословия, а между тем этому философу приписывается такое выражение: “Мы знаем только то, что сами можем сделать”, — выражение, которое, очевидно, не допускает отделения знания от действия, т. е. выделения ученых в особое сословие. И вот, хотя прошло более двух тысяч лет со времени Аристотеля, но до сих пор не было еще ни одного мыслителя, который бы это именно начало, этот критерий — доказательство знания действием — поставил во главу своего учения» (I, 57). Эту мысль Ф. повторяет неоднократно, например, приводя ее в качестве цитаты в статье «Творение и воссоздавание» (II, 77) или в статье «Панлогизм или иллогизм?» (II, 105), посвященной критическому разбору взглядов Гегеля. В статье «Цена жизни» Ф. высоко оценивает деятельность Александра Македонского, который, будучи учеником А., соединяет «в себе дело и знание… переносит западное знание в страну веры, на Восток. Поход Александра был и ученою экспедициею, создавшею Александрийский музей, через который ''учения Востока'' стали известны Западу» (III, 549). В другом месте Ф. прямо говорит, что А. был «отцом Александрийского музея» (I, 213), поскольку он опирался на земной опыт, историю, память. В результате рождается «новая муза», «муза опытных наук». Этот тезис А. означает у Ф. превращение ''гносеологии'' в ''гносеургию'', то есть в познание делом. Если бы этот принцип был воплощен в действительность, тогда, согласно Ф.: «это был бы проект обращения слепой силы в разумную, осуществление которого и доказало бы, что жизнь — дар не случайный и не напрасный» (I, 57). В тоже время, следуя своей общей критической установке по отношению к философии как отвлеченному знанию без дела, Ф. выражает отрицательное отношение и к А., который, наряду с Платоном стоял во главе такого знания. Называя философов своим излюбленным выражением «блудные сыны», Ф. пишет во второй части «Вопроса о братстве, или родстве…»: «Лучше быть самым низшим, самым последним из ''«сынов человеческих''», чем царем всех избранных умов, каковы Платон, Аристотель — словом, все философы от Фалеса и до последнего по времени, которые не умели понять, что и они «блудные сыны», т. е. братья наши. Мировой бог философов есть бог только живущего поколения, а не живых в христианском смысле» (I, 124). В работе «Собор» Ф. делает важнейшее для всего его учения разделение между словами Дельфийского оракула: «Познай самого себя» и евангельским призывом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если первый совет направлен на индивидуальное познание и спасение, отрицающее его всеобщее, вселенское измерение, то второй как раз говорит об общем спасении, возможном лишь через покаяние. Радикализацию тезиса Дельфийского оракула Ф. видит именно у А.: «Другое изречение того же оракула, которое стало основою ифики Аристотеля, уже предполагает первое изречение, т. е. знание только себя (личности), и дает совет — “ничего слишком” или “все в меру”, т. е. мера самое лучшее; совет этот относится, очевидно, к личностям, взятым в отдельности, а не в их совокупности» (I, 358). Примечательно то, что А., напряду с Платоном выступает у Ф. символом «небратства». Анализируя картину Рафаэля «Афинская школа, он пишет: «Картина, изображающая философию, хотя и называется афинскою школою, но вернее бы назвать ее спором; в самой середине этой картины изображены Платон и Аристотель, и, судя по тому, что один из них указывает на небо, а другой на землю, между ними не могло быть других отношений, кроме полемических» (I, 323). Тот же тезис Ф. повторил в статье «Единства истории и астрономии», в которой разъединению земли (А.) и неба (Платон) он предлагает альтернативу «действующей руки», а не только указующей. Он пишет: «Рафаэль в своей картине “Афинская школа” изобразил Платона указывающим ''на небо'', а Аристотеля — ''на землю''. Такое изображение относится к докоперниканскому времени. Коперник мог бы сказать Платону, указывающему на небо, что и земля на небе, а Аристотелю, указывающему на землю, мог быть сказать, что и ''на небе'' есть ''земли''. Такую же философию, какой учил Кант, т.е. предопытную, идеальную, можно изобразить указанием не на небо и не на землю, а ''на себя, на орган идей''. Таким указанием на себя, на голову может быть представлена и вся послекантовская философия. Но только тогда, когда будет понято, что мысленное не есть только мнимое, хотя не есть и действительное, а ''проективное'', которое должно быть осуществлено, т.е. мысль должна быть ''всеобщим делом'', тогда к указанию одною рукою на голову нужно присоединить ''указание другою рукою'' на внешний мир, который должен быть управляем мыслию. Еще лучше другую руку представить ''действующею'', а не указывающею лишь (III, 365). И в этом, согласно Ф. суть проективного, всеобщего дела, в котором бы примирились и «поклонники неба» и «поклонники земли»; и крестьяне, и горожане. | + | В текстах Ф. имя А. встречается нередко в различных контекстах. А. привлекал внимание Ф. своим опытным, а не отвлеченным подходом к познанию мира, в результате которого мир представлялся в принципе познаваемым средствами научной методологии. ''В.А. Кожевников'' дает следующую характеристику А., которая объясняет положительное отношение к нему Ф.: «В лице А. оно (отношение к природе. — ''В. В.'') сделало колоссальный шаг вперед. Среди стольких заслуг трезвого ума великого Стагирита, быть может высшей следует считать убеждение в необходимости ''универсального знания''. Ему было ясно, что только полное всеобъемлющее ведение может стать совершенным знанием. Отсюда энциклопедическое, полигисторское направление его деятельности; отсюда столь сосредоточенное внимание даже на таких кажущихся мелочах в жизни природы, снисходить до которых считалось недостойным мудреца у более тщеславных умов; отсюда же, наконец, высшая оценка опыта, доведенного до активного воздействия на силы природы» (''Кожевников ''2004, с. 313). Однако отношение к древнегреческому философу у Ф. двойственное. Критически относясь ко всей традиции западноевропейской философии как к традиции отвлеченного знания, и в том числе к «ученому сословию» как главному представителю и носителю такого знания, А. выпадает из этой традиции. Можно сказать, что А. у Ф. занимает исключительно привилегированное положение, поскольку лишь у него он увидел синтез знания и действия. Характерны в этом отношении следующие слова Ф. из его работы ''«Вопрос о братстве, или родстве…»'': «Аристотеля можно считать отцом ученого сословия, а между тем этому философу приписывается такое выражение: “Мы знаем только то, что сами можем сделать”, — выражение, которое, очевидно, не допускает отделения знания от действия, т. е. выделения ученых в особое сословие. И вот, хотя прошло более двух тысяч лет со времени Аристотеля, но до сих пор не было еще ни одного мыслителя, который бы это именно начало, этот критерий — доказательство знания действием — поставил во главу своего учения» ({{s|I, 57|1|57}}). Эту мысль Ф. повторяет неоднократно, например, приводя ее в качестве цитаты в статье «Творение и воссоздавание» ({{s|II, 77|2|77}}) или в статье «Панлогизм или иллогизм?» ({{s|II, 105|2|105}}), посвященной критическому разбору взглядов Гегеля. В статье «Цена жизни» Ф. высоко оценивает деятельность Александра Македонского, который, будучи учеником А., соединяет «в себе дело и знание… переносит западное знание в страну веры, на Восток. Поход Александра был и ученою экспедициею, создавшею Александрийский музей, через который ''учения Востока'' стали известны Западу» ({{s|III, 549|3|549}}). В другом месте Ф. прямо говорит, что А. был «отцом Александрийского музея» ({{s|I, 213|1|213}}), поскольку он опирался на земной опыт, историю, память. В результате рождается «новая муза», «муза опытных наук». Этот тезис А. означает у Ф. превращение ''гносеологии'' в ''гносеургию'', то есть в познание делом. Если бы этот принцип был воплощен в действительность, тогда, согласно Ф.: «это был бы проект обращения слепой силы в разумную, осуществление которого и доказало бы, что жизнь — дар не случайный и не напрасный» ({{s|I, 57|1|57}}). В тоже время, следуя своей общей критической установке по отношению к философии как отвлеченному знанию без дела, Ф. выражает отрицательное отношение и к А., который, наряду с Платоном стоял во главе такого знания. Называя философов своим излюбленным выражением «блудные сыны», Ф. пишет во второй части «Вопроса о братстве, или родстве…»: «Лучше быть самым низшим, самым последним из ''«сынов человеческих''», чем царем всех избранных умов, каковы Платон, Аристотель — словом, все философы от Фалеса и до последнего по времени, которые не умели понять, что и они «блудные сыны», т. е. братья наши. Мировой бог философов есть бог только живущего поколения, а не живых в христианском смысле» ({{s|I, 124|1|124}}). В работе «Собор» Ф. делает важнейшее для всего его учения разделение между словами Дельфийского оракула: «Познай самого себя» и евангельским призывом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если первый совет направлен на индивидуальное познание и спасение, отрицающее его всеобщее, вселенское измерение, то второй как раз говорит об общем спасении, возможном лишь через покаяние. Радикализацию тезиса Дельфийского оракула Ф. видит именно у А.: «Другое изречение того же оракула, которое стало основою ифики Аристотеля, уже предполагает первое изречение, т. е. знание только себя (личности), и дает совет — “ничего слишком” или “все в меру”, т. е. мера самое лучшее; совет этот относится, очевидно, к личностям, взятым в отдельности, а не в их совокупности» ({{s|I, 358|1|358}}). Примечательно то, что А., напряду с Платоном выступает у Ф. символом «небратства». Анализируя картину Рафаэля «Афинская школа, он пишет: «Картина, изображающая философию, хотя и называется афинскою школою, но вернее бы назвать ее спором; в самой середине этой картины изображены Платон и Аристотель, и, судя по тому, что один из них указывает на небо, а другой на землю, между ними не могло быть других отношений, кроме полемических» ({{s|I, 323|1|323}}). Тот же тезис Ф. повторил в статье «Единства истории и астрономии», в которой разъединению земли (А.) и неба (Платон) он предлагает альтернативу «действующей руки», а не только указующей. Он пишет: «Рафаэль в своей картине “Афинская школа” изобразил Платона указывающим ''на небо'', а Аристотеля — ''на землю''. Такое изображение относится к докоперниканскому времени. Коперник мог бы сказать Платону, указывающему на небо, что и земля на небе, а Аристотелю, указывающему на землю, мог быть сказать, что и ''на небе'' есть ''земли''. Такую же философию, какой учил Кант, т.е. предопытную, идеальную, можно изобразить указанием не на небо и не на землю, а ''на себя, на орган идей''. Таким указанием на себя, на голову может быть представлена и вся послекантовская философия. Но только тогда, когда будет понято, что мысленное не есть только мнимое, хотя не есть и действительное, а ''проективное'', которое должно быть осуществлено, т.е. мысль должна быть ''всеобщим делом'', тогда к указанию одною рукою на голову нужно присоединить ''указание другою рукою'' на внешний мир, который должен быть управляем мыслию. Еще лучше другую руку представить ''действующею'', а не указывающею лишь ({{s|III, 365|3|365}}). И в этом, согласно Ф. суть проективного, всеобщего дела, в котором бы примирились и «поклонники неба» и «поклонники земли»; и крестьяне, и горожане. |
| + | |||
| + | '''Федоров:''' '''I,''' {{f-|1|12}}, {{f-|1|57}}, {{f-|1|124}}, {{f-|1|209}}, {{f-|1|213}}, {{f-|1|323}}, {{f-|1|327}}, {{f-|1|328}}, {{f-|1|340}}, {{f-|1|358}}, {{f-|1|488}}, {{f-|1|503}}; '''II,''' {{f-|2|77}}, {{f-|2|93}}, {{f-|2|493}}, '''III,''' {{f-|3|122}}, {{f-|3|365}}, {{f-|3|492}}, {{f-|3|549}}; '''Д,'''{{f-|5|114}}. | ||
'''Соч.: '''''Аристотель. ''Сочинения: В 4 т. М., 1975–1981. | '''Соч.: '''''Аристотель. ''Сочинения: В 4 т. М., 1975–1981. | ||
Текущая версия на 23:23, 16 января 2021
АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (Aristoteles) (384, Стагир — 322 до н.э., Халкида, о. Эвбея) — крупнейший древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, создавший универсальную систему знаний и классификацию наук, основанную на опытном отношении к миру.
Философия А. оказала огромное влияние на развитие всей последующей европейской философии, преимущественно ее рационалистической линии. А. пользовался большим авторитетом в схоластике (Альберт Великий, Фома Аквинский). В Новое и новейшее время его идеи использовали философы различных направлений (от неосхоластики до неотомизма).
В текстах Ф. имя А. встречается нередко в различных контекстах. А. привлекал внимание Ф. своим опытным, а не отвлеченным подходом к познанию мира, в результате которого мир представлялся в принципе познаваемым средствами научной методологии. В.А. Кожевников дает следующую характеристику А., которая объясняет положительное отношение к нему Ф.: «В лице А. оно (отношение к природе. — В. В.) сделало колоссальный шаг вперед. Среди стольких заслуг трезвого ума великого Стагирита, быть может высшей следует считать убеждение в необходимости универсального знания. Ему было ясно, что только полное всеобъемлющее ведение может стать совершенным знанием. Отсюда энциклопедическое, полигисторское направление его деятельности; отсюда столь сосредоточенное внимание даже на таких кажущихся мелочах в жизни природы, снисходить до которых считалось недостойным мудреца у более тщеславных умов; отсюда же, наконец, высшая оценка опыта, доведенного до активного воздействия на силы природы» (Кожевников 2004, с. 313). Однако отношение к древнегреческому философу у Ф. двойственное. Критически относясь ко всей традиции западноевропейской философии как к традиции отвлеченного знания, и в том числе к «ученому сословию» как главному представителю и носителю такого знания, А. выпадает из этой традиции. Можно сказать, что А. у Ф. занимает исключительно привилегированное положение, поскольку лишь у него он увидел синтез знания и действия. Характерны в этом отношении следующие слова Ф. из его работы «Вопрос о братстве, или родстве…»: «Аристотеля можно считать отцом ученого сословия, а между тем этому философу приписывается такое выражение: “Мы знаем только то, что сами можем сделать”, — выражение, которое, очевидно, не допускает отделения знания от действия, т. е. выделения ученых в особое сословие. И вот, хотя прошло более двух тысяч лет со времени Аристотеля, но до сих пор не было еще ни одного мыслителя, который бы это именно начало, этот критерий — доказательство знания действием — поставил во главу своего учения» (I, 57). Эту мысль Ф. повторяет неоднократно, например, приводя ее в качестве цитаты в статье «Творение и воссоздавание» (II, 77) или в статье «Панлогизм или иллогизм?» (II, 105), посвященной критическому разбору взглядов Гегеля. В статье «Цена жизни» Ф. высоко оценивает деятельность Александра Македонского, который, будучи учеником А., соединяет «в себе дело и знание… переносит западное знание в страну веры, на Восток. Поход Александра был и ученою экспедициею, создавшею Александрийский музей, через который учения Востока стали известны Западу» (III, 549). В другом месте Ф. прямо говорит, что А. был «отцом Александрийского музея» (I, 213), поскольку он опирался на земной опыт, историю, память. В результате рождается «новая муза», «муза опытных наук». Этот тезис А. означает у Ф. превращение гносеологии в гносеургию, то есть в познание делом. Если бы этот принцип был воплощен в действительность, тогда, согласно Ф.: «это был бы проект обращения слепой силы в разумную, осуществление которого и доказало бы, что жизнь — дар не случайный и не напрасный» (I, 57). В тоже время, следуя своей общей критической установке по отношению к философии как отвлеченному знанию без дела, Ф. выражает отрицательное отношение и к А., который, наряду с Платоном стоял во главе такого знания. Называя философов своим излюбленным выражением «блудные сыны», Ф. пишет во второй части «Вопроса о братстве, или родстве…»: «Лучше быть самым низшим, самым последним из «сынов человеческих», чем царем всех избранных умов, каковы Платон, Аристотель — словом, все философы от Фалеса и до последнего по времени, которые не умели понять, что и они «блудные сыны», т. е. братья наши. Мировой бог философов есть бог только живущего поколения, а не живых в христианском смысле» (I, 124). В работе «Собор» Ф. делает важнейшее для всего его учения разделение между словами Дельфийского оракула: «Познай самого себя» и евангельским призывом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если первый совет направлен на индивидуальное познание и спасение, отрицающее его всеобщее, вселенское измерение, то второй как раз говорит об общем спасении, возможном лишь через покаяние. Радикализацию тезиса Дельфийского оракула Ф. видит именно у А.: «Другое изречение того же оракула, которое стало основою ифики Аристотеля, уже предполагает первое изречение, т. е. знание только себя (личности), и дает совет — “ничего слишком” или “все в меру”, т. е. мера самое лучшее; совет этот относится, очевидно, к личностям, взятым в отдельности, а не в их совокупности» (I, 358). Примечательно то, что А., напряду с Платоном выступает у Ф. символом «небратства». Анализируя картину Рафаэля «Афинская школа, он пишет: «Картина, изображающая философию, хотя и называется афинскою школою, но вернее бы назвать ее спором; в самой середине этой картины изображены Платон и Аристотель, и, судя по тому, что один из них указывает на небо, а другой на землю, между ними не могло быть других отношений, кроме полемических» (I, 323). Тот же тезис Ф. повторил в статье «Единства истории и астрономии», в которой разъединению земли (А.) и неба (Платон) он предлагает альтернативу «действующей руки», а не только указующей. Он пишет: «Рафаэль в своей картине “Афинская школа” изобразил Платона указывающим на небо, а Аристотеля — на землю. Такое изображение относится к докоперниканскому времени. Коперник мог бы сказать Платону, указывающему на небо, что и земля на небе, а Аристотелю, указывающему на землю, мог быть сказать, что и на небе есть земли. Такую же философию, какой учил Кант, т.е. предопытную, идеальную, можно изобразить указанием не на небо и не на землю, а на себя, на орган идей. Таким указанием на себя, на голову может быть представлена и вся послекантовская философия. Но только тогда, когда будет понято, что мысленное не есть только мнимое, хотя не есть и действительное, а проективное, которое должно быть осуществлено, т.е. мысль должна быть всеобщим делом, тогда к указанию одною рукою на голову нужно присоединить указание другою рукою на внешний мир, который должен быть управляем мыслию. Еще лучше другую руку представить действующею, а не указывающею лишь (III, 365). И в этом, согласно Ф. суть проективного, всеобщего дела, в котором бы примирились и «поклонники неба» и «поклонники земли»; и крестьяне, и горожане.
Федоров: I, 12, 57, 124, 209, 213, 323, 327, 328, 340, 358, 488, 503; II, 77, 93, 493, III, 122, 365, 492, 549; Д,114.
Соч.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1975–1981.
Лит.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975; Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1987; Кожевников 2004; Семенова 2004.