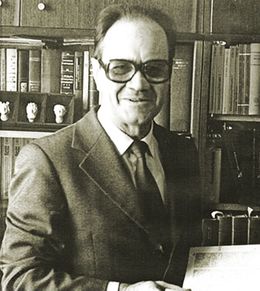Гулыга Арсений Владимирович: различия между версиями
Petrov (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:Гулыга портрет.jpg|right|260px|мини|А.В. Гулыга]]'''ГУЛЫГА '''Арсений Владимирович (29 апреля 1921, Чехословакия — 10 июля 1996, Москва) — философ, специалист по истории русской и зарубежной философии, д-р филос. наук. | ||
| + | В 1938 г. поступил на философский факультет МИФЛИ, где учился по 1942 г. Был участником Великой Отечественной войны. В 1945 окончил философский факультет МГУ. В 1956–1986 гг. работал в Институте философии РАН. Г. был одним из инициаторов серии «Философское наследие» издательства «Мысль», в которой выходили в свет сочинения ''Аристотеля'', ''И. Канта. Г. Гегеля, Ф. Бэкона, Г. Сковороды, ''Ф.'' ''и др. Г. выступил редактором ряда томов. Был заместителем председателя редколлегии серии. В середине 1980 гг. стал инициатором основания Литературно-философского общества им. ''Ф.М. Достоевского''. | ||
| + | |||
| + | В конце 1970-х гг. с подачи В.В. Кожинова Г. выступил с инициативой выпуска в серии «Философское наследие» сочинений русских философов. В 1979 г. предложил ''С.Г. Семеновой ''подготовить том Ф. Содействовал прохождению издания сквозь цензурные препоны. Формально выступил ответственным редактором тома и тем самым прикрыл своим авторитетом его выход в свет. Том был издан в 1982 г. (''Сочинения 1982''). Вскоре после выхода издание было объявлено «идеологической диверсией», в официальной печати появились статьи ''С.Р. Микулинского ''(Так ли нужно относиться к наследству? // Вопросы философии. 1982. № 12) и ''Н.К. Гаврюшина'' (под псевдонимом «А.М.») «Воскресение чаемое или восхищаемое (О религиозных воззрениях Н.Ф. Федорова)» (Богословские труды. № 24. М., 1983). Г. был снят с должности заместителя председателя серии «Философское наследие», была арестована часть тиража. Подготовленный Г. и ''А.Ф. Лосевым'' двухтомник ''В.С. Соловьева'' был остановлен и вышел в свет только в 1988 г. | ||
| + | |||
| + | Г. активно участвовал в защите вышедшего издания. В архиве С.Г. Семеновой сохранился машинописный экземпляр текста ее ответа на рецензию С.Р. Микулинского с правкой Г., который был направлен в редакцию «Вопросов философии». В 1988 г. выступил с инициативой издания философских сочинений ''А.В. Сухово-Кобылина'', привлек к составлению тома С.Г. Семенову, однако работа не была доведена до конца. | ||
| + | |||
| + | Г. высоко оценивал два исторических периода мировой философии — немецкий идеализм и русский ренессанс. По мнению Г., немецкая классическая философия вновь актуализировала диалектику, а мыслители русского духовного ренессанса, опираясь на диалектику, дали ответ на вопрос о будущем человечества. Это будущее, согласно Г., состоит в диалектическом единстве коллективного и личного, которое лучше всего выражено в русской идее соборности: «Русская идея — идея соборного объединения человечества. Спасение не в опирающемся на насилие коммунистическом коллективизме и не в буржуазном индивидуализме, признающем лишь формальное право, а в высокой общности, построенной на диалектическом единстве общего и индивидуального. Только так возможна победа над смертью, возникновение “сверхчеловека”, равного Богу» (''Гулыга А.В''. Русская идея и ее творцы. М.: Товарищество «Соратник», 1995. С. 25.). | ||
| + | |||
| + | В работе «Русская идея и ее творцы» Г. отражает этапы формирования русской идеи, отмечая особую роль Ф. Хотя Ф. не употреблял понятий «русская идея» и «соборность», «нет другого такого мыслителя, который бы столь всесторонне и глубоко осмыслил идею общности человечества во имя высоких целей обретения им вечной жизни». (Там же. С. 120). Именно он, с точки зрения Г., во всей полноте выразил идеал совершенного единения, к которому устремлялась русская мысль, полагая его в образе Троицы: «Мировое всеединство при сохранении индивидуальности — такова космическая соборность Федорова, его идеал» (Там же. С. 25). | ||
| + | |||
| + | Г. подчеркивал устремленность русской мысли к созидательному действию, требование всеобщности спасения. «Спасаться надо не отдельными делами, а одним, общим делом человечества» (Там же. С. 23). Отмечал роль русского космизма в конкретизации русской идеи, ее обращении в проект: «В русском космизме идея соборности обрела деятельные черты. Абстрактные призывы Соловьева к добру воплотились здесь в конкретную программу: человечество должно объединиться против извечного врага смерти, вернуть к жизни ушедшие поколения, для размещения и прокормления которых надо освоить космос» (Там же. С. 23). Считая эсхатологизм составной частью русской идеи, Г. указывал на его оптимистический, творческий, активный характер, трактовал русскую эсхатологию, опираясь на федоровскую идею условности апокалиптических пророчеств: «Русские видели в последней книге Евангелия предупреждение человечеству: катастрофа наступит, если люди не предотвратят ее, последнее в их силах. Русская эсхатология гуманистична, она предполагает не уничтожение, а преображение человечества» (Там же. С. 24). | ||
| + | |||
| + | Посвятив Ф. отдельную главу, Г. осветил основные положения философии Общего Дела, особенно отметив идеи освоения космоса, преобразования армии в естествоиспытательную силу, спасающую от природных бедствий, особый монархизм Ф., идеал положительного целомудрия, ключевую для Ф. идею имманентного воскрешения, положительное определение добра. Рассматривая отношение Ф. к западной философии, Г. отмечал, что она виделась ему «теоретическим обоснованием индивидуализма», осмысляет его трактовку «критицизма Канта и позитивизма Конта» (Там же. С. 124). Дал характеристику взаимоотношений Ф. с его современниками — ''Л.Н. Толстым, Ф.М., Достоевским, В.С. Соловьевым''. Сравнивая взгляды Ф. и Соловьева, он пришел к выводу о том, что мыслители расходились в определении добра: у Соловьева добро «выглядит только как отрицание порока», и федоровская формула «добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь» для Соловьева была бы неприемлема «из-за отсутствия в ней нравственной оценки живущего. Праведник и злодей здесь на равных». Близость Ф. и Соловьева Г. видит в том, что «основание добра — любовь. Здесь Федоров и Соловьев едины». (Там же. С. 128). | ||
| + | |||
| + | Г. воспроизводит историю ''рус. космизма'', подчеркивая сходство идей Ф. и ''А.В. Сухово-Кобылина, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского''. Говоря о наследии Ф. в советской России, демонстрирует преемственность взглядов Ф. в работах ''А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева'', тем самым, реконструируя историю федоровианы нач. XX в. Рассматривая отечественную историю после революции, Г. видит в действиях молодого советского государства влияние философии Общего Дела и русского богостроительства. Для последнего характерно создание новых (в отличие от религиозного богоискательства) сверхиндивидуальных объектов «поклонения» — космоса, общества, техники. Крупнейший теоретик богостроительства А.В. Луначарский определял это направление как «религию без бога». «В пореволюционные годы федоровское движение, — пишет Г., — получило новые импульсы: после победы Октября казалось все возможным – и преодоление земного тяготения и самой смерти. Когда умер Ленин, его тело не было предано земле не только в целях поклонения, но и с учетом возможного воскрешения». (Там же. С. 130). Г. отмечает влияние философии Общего Дела на евразийцев и считает философское наследие Ф. «яблоком раздора», из-за трактовки которого «в движении наметился раскол». Так, ''Н.С. Трубецкой'' порвал с движением из-за попыток последнего «соединить евразийство с Марксом и Федоровым». (Там же. С. 134). Апеллируя к работе М. Хагемейстера «Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung» (München, 1989), Г. цитирует напечатанные в 1928 г. в газете «Евразия» «Письма из России», автором которых был ''Н.А. Сетницкий'', акцентируя высказанную в них мысль о примирении разнонаправленных идейных и творческих сил, «разбуженных русской революцией» на основе федоровского общего дела. | ||
| + | |||
| + | Возрождение интереса к философии Общего Дела в СССР Г. связывает с успехами советской космической программы, «когда начались полеты в космос, когда началось возрождение русского национального самосознания». (Там же. С. 134). | ||
| + | |||
| + | В послесловии к книге «Русская идея и ее творцы», которая носила рабочее название «Философия грядущего» (Там же. С. 5), Г. акцентировал значение русской мысли для формирования созидательного образа будущего, преодоления кризисных тенденций современности. Обобщая «мыслительные результаты», достигнутые «русской идеалистической философией», он формулировал их на основе идей Ф. и русского космизма: «преодоление земного тяготения», взгляд на человека как на «космическое существо», агента «развития Вселенной», ответственного за ее судьбы; «преодоление насилия и взаимного истребления», онтологический статус любви; «преодоление смерти», достижения бессмертия и богоподобия (Там же. С. 298). | ||
| + | |||
| + | Идейная близость Ф. заметна и в собственных философских взглядах Г. Нынешний этап истории культуры Г. характеризовал как постсовременный, в котором культура созидается воспроизводством традиции. Из этого представления исходит биографический исследовательский метод Г. и его интерес к истории философии. При этом существенно, что Г. считал человеческую личность творцом истории, что значительно отличает его взгляды от исторического материализма, для которого человек — продукт социально-экономических отношений. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Соч.:''' Из истории немецкого материализма. М., 1962; Гердер. М., 1963; Гегель. М., 1970; Эстетика истории. М., 1974; Кант. М., 1977; Искусство в век науки. М., 1978; Искусство истории, 1980; Шеллинг. М., 1982; Немецкая классическая философия, М., 1986; Что такое эстетика. М., 1987; Путями Фауста. М., 1987; Уроки классики и современность. М., 1990; Русская идея и ее творцы. М.: Товарищество «Соратник», 1995. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Лит.:.''' ''Свасьян К.'' Побуждаю философствовать // Книжное обозрение. М., 1987. № 3; ''Буева Л.П.'' Памяти А.В. Гулыги // Вопросы философии. 1996. № 12; ''Соколов В.В.'' Арсений Владимирович Гулыга // Философские науки. М., 1996. № 1–4; Памяти А.В. Гулыги // Наш современник. М., 1996. № 11; ''Андреева И.С.'' Слово об авторе // Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. М., 2000; Гулыга Арсений Владимирович // Казачий словарь. М., 2003; Гулыга Арсений Владимирович // Русская философия: Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="text-align:right">[[Барановский_Дмитрий_Владимирович|''Д.В. Барановский'']]</div> | ||
Текущая версия на 21:13, 25 января 2021
ГУЛЫГА Арсений Владимирович (29 апреля 1921, Чехословакия — 10 июля 1996, Москва) — философ, специалист по истории русской и зарубежной философии, д-р филос. наук.
В 1938 г. поступил на философский факультет МИФЛИ, где учился по 1942 г. Был участником Великой Отечественной войны. В 1945 окончил философский факультет МГУ. В 1956–1986 гг. работал в Институте философии РАН. Г. был одним из инициаторов серии «Философское наследие» издательства «Мысль», в которой выходили в свет сочинения Аристотеля, И. Канта. Г. Гегеля, Ф. Бэкона, Г. Сковороды, Ф. и др. Г. выступил редактором ряда томов. Был заместителем председателя редколлегии серии. В середине 1980 гг. стал инициатором основания Литературно-философского общества им. Ф.М. Достоевского.
В конце 1970-х гг. с подачи В.В. Кожинова Г. выступил с инициативой выпуска в серии «Философское наследие» сочинений русских философов. В 1979 г. предложил С.Г. Семеновой подготовить том Ф. Содействовал прохождению издания сквозь цензурные препоны. Формально выступил ответственным редактором тома и тем самым прикрыл своим авторитетом его выход в свет. Том был издан в 1982 г. (Сочинения 1982). Вскоре после выхода издание было объявлено «идеологической диверсией», в официальной печати появились статьи С.Р. Микулинского (Так ли нужно относиться к наследству? // Вопросы философии. 1982. № 12) и Н.К. Гаврюшина (под псевдонимом «А.М.») «Воскресение чаемое или восхищаемое (О религиозных воззрениях Н.Ф. Федорова)» (Богословские труды. № 24. М., 1983). Г. был снят с должности заместителя председателя серии «Философское наследие», была арестована часть тиража. Подготовленный Г. и А.Ф. Лосевым двухтомник В.С. Соловьева был остановлен и вышел в свет только в 1988 г.
Г. активно участвовал в защите вышедшего издания. В архиве С.Г. Семеновой сохранился машинописный экземпляр текста ее ответа на рецензию С.Р. Микулинского с правкой Г., который был направлен в редакцию «Вопросов философии». В 1988 г. выступил с инициативой издания философских сочинений А.В. Сухово-Кобылина, привлек к составлению тома С.Г. Семенову, однако работа не была доведена до конца.
Г. высоко оценивал два исторических периода мировой философии — немецкий идеализм и русский ренессанс. По мнению Г., немецкая классическая философия вновь актуализировала диалектику, а мыслители русского духовного ренессанса, опираясь на диалектику, дали ответ на вопрос о будущем человечества. Это будущее, согласно Г., состоит в диалектическом единстве коллективного и личного, которое лучше всего выражено в русской идее соборности: «Русская идея — идея соборного объединения человечества. Спасение не в опирающемся на насилие коммунистическом коллективизме и не в буржуазном индивидуализме, признающем лишь формальное право, а в высокой общности, построенной на диалектическом единстве общего и индивидуального. Только так возможна победа над смертью, возникновение “сверхчеловека”, равного Богу» (Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М.: Товарищество «Соратник», 1995. С. 25.).
В работе «Русская идея и ее творцы» Г. отражает этапы формирования русской идеи, отмечая особую роль Ф. Хотя Ф. не употреблял понятий «русская идея» и «соборность», «нет другого такого мыслителя, который бы столь всесторонне и глубоко осмыслил идею общности человечества во имя высоких целей обретения им вечной жизни». (Там же. С. 120). Именно он, с точки зрения Г., во всей полноте выразил идеал совершенного единения, к которому устремлялась русская мысль, полагая его в образе Троицы: «Мировое всеединство при сохранении индивидуальности — такова космическая соборность Федорова, его идеал» (Там же. С. 25).
Г. подчеркивал устремленность русской мысли к созидательному действию, требование всеобщности спасения. «Спасаться надо не отдельными делами, а одним, общим делом человечества» (Там же. С. 23). Отмечал роль русского космизма в конкретизации русской идеи, ее обращении в проект: «В русском космизме идея соборности обрела деятельные черты. Абстрактные призывы Соловьева к добру воплотились здесь в конкретную программу: человечество должно объединиться против извечного врага смерти, вернуть к жизни ушедшие поколения, для размещения и прокормления которых надо освоить космос» (Там же. С. 23). Считая эсхатологизм составной частью русской идеи, Г. указывал на его оптимистический, творческий, активный характер, трактовал русскую эсхатологию, опираясь на федоровскую идею условности апокалиптических пророчеств: «Русские видели в последней книге Евангелия предупреждение человечеству: катастрофа наступит, если люди не предотвратят ее, последнее в их силах. Русская эсхатология гуманистична, она предполагает не уничтожение, а преображение человечества» (Там же. С. 24).
Посвятив Ф. отдельную главу, Г. осветил основные положения философии Общего Дела, особенно отметив идеи освоения космоса, преобразования армии в естествоиспытательную силу, спасающую от природных бедствий, особый монархизм Ф., идеал положительного целомудрия, ключевую для Ф. идею имманентного воскрешения, положительное определение добра. Рассматривая отношение Ф. к западной философии, Г. отмечал, что она виделась ему «теоретическим обоснованием индивидуализма», осмысляет его трактовку «критицизма Канта и позитивизма Конта» (Там же. С. 124). Дал характеристику взаимоотношений Ф. с его современниками — Л.Н. Толстым, Ф.М., Достоевским, В.С. Соловьевым. Сравнивая взгляды Ф. и Соловьева, он пришел к выводу о том, что мыслители расходились в определении добра: у Соловьева добро «выглядит только как отрицание порока», и федоровская формула «добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь» для Соловьева была бы неприемлема «из-за отсутствия в ней нравственной оценки живущего. Праведник и злодей здесь на равных». Близость Ф. и Соловьева Г. видит в том, что «основание добра — любовь. Здесь Федоров и Соловьев едины». (Там же. С. 128).
Г. воспроизводит историю рус. космизма, подчеркивая сходство идей Ф. и А.В. Сухово-Кобылина, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского. Говоря о наследии Ф. в советской России, демонстрирует преемственность взглядов Ф. в работах А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева, тем самым, реконструируя историю федоровианы нач. XX в. Рассматривая отечественную историю после революции, Г. видит в действиях молодого советского государства влияние философии Общего Дела и русского богостроительства. Для последнего характерно создание новых (в отличие от религиозного богоискательства) сверхиндивидуальных объектов «поклонения» — космоса, общества, техники. Крупнейший теоретик богостроительства А.В. Луначарский определял это направление как «религию без бога». «В пореволюционные годы федоровское движение, — пишет Г., — получило новые импульсы: после победы Октября казалось все возможным – и преодоление земного тяготения и самой смерти. Когда умер Ленин, его тело не было предано земле не только в целях поклонения, но и с учетом возможного воскрешения». (Там же. С. 130). Г. отмечает влияние философии Общего Дела на евразийцев и считает философское наследие Ф. «яблоком раздора», из-за трактовки которого «в движении наметился раскол». Так, Н.С. Трубецкой порвал с движением из-за попыток последнего «соединить евразийство с Марксом и Федоровым». (Там же. С. 134). Апеллируя к работе М. Хагемейстера «Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung» (München, 1989), Г. цитирует напечатанные в 1928 г. в газете «Евразия» «Письма из России», автором которых был Н.А. Сетницкий, акцентируя высказанную в них мысль о примирении разнонаправленных идейных и творческих сил, «разбуженных русской революцией» на основе федоровского общего дела.
Возрождение интереса к философии Общего Дела в СССР Г. связывает с успехами советской космической программы, «когда начались полеты в космос, когда началось возрождение русского национального самосознания». (Там же. С. 134).
В послесловии к книге «Русская идея и ее творцы», которая носила рабочее название «Философия грядущего» (Там же. С. 5), Г. акцентировал значение русской мысли для формирования созидательного образа будущего, преодоления кризисных тенденций современности. Обобщая «мыслительные результаты», достигнутые «русской идеалистической философией», он формулировал их на основе идей Ф. и русского космизма: «преодоление земного тяготения», взгляд на человека как на «космическое существо», агента «развития Вселенной», ответственного за ее судьбы; «преодоление насилия и взаимного истребления», онтологический статус любви; «преодоление смерти», достижения бессмертия и богоподобия (Там же. С. 298).
Идейная близость Ф. заметна и в собственных философских взглядах Г. Нынешний этап истории культуры Г. характеризовал как постсовременный, в котором культура созидается воспроизводством традиции. Из этого представления исходит биографический исследовательский метод Г. и его интерес к истории философии. При этом существенно, что Г. считал человеческую личность творцом истории, что значительно отличает его взгляды от исторического материализма, для которого человек — продукт социально-экономических отношений.
Соч.: Из истории немецкого материализма. М., 1962; Гердер. М., 1963; Гегель. М., 1970; Эстетика истории. М., 1974; Кант. М., 1977; Искусство в век науки. М., 1978; Искусство истории, 1980; Шеллинг. М., 1982; Немецкая классическая философия, М., 1986; Что такое эстетика. М., 1987; Путями Фауста. М., 1987; Уроки классики и современность. М., 1990; Русская идея и ее творцы. М.: Товарищество «Соратник», 1995.
Лит.:. Свасьян К. Побуждаю философствовать // Книжное обозрение. М., 1987. № 3; Буева Л.П. Памяти А.В. Гулыги // Вопросы философии. 1996. № 12; Соколов В.В. Арсений Владимирович Гулыга // Философские науки. М., 1996. № 1–4; Памяти А.В. Гулыги // Наш современник. М., 1996. № 11; Андреева И.С. Слово об авторе // Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. М., 2000; Гулыга Арсений Владимирович // Казачий словарь. М., 2003; Гулыга Арсений Владимирович // Русская философия: Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007.